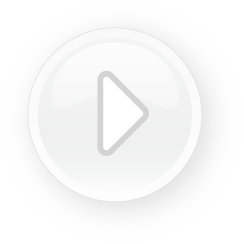Право
В блогах
Амстердам и Махачкала

(Обосновывая право местных властей запрещать гей-парады)
Давайте оставим в стороне, как ты хочешь жить, свободу мысли и так далее, я это не затрагиваю, я затрагиваю специфические условия, которые явно говорят, что не может быть одинаково в Амстердаме и в Махачкале.
Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда
Читатель! в мире так устроено издавна:
Мы разнимся в судьбе,
Во вкусах и подавно;
Я это басней пояснил тебе.
С ума ты сходишь от Берлина;
Мне ж больше нравится Медынь.
Тебе, дружок, и горький хрен - малина,
А мне и бланманже - полынь!
Козьма Прутков. "Разница вкусов"
Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
Александр Пушкин. "Послание цензору"
Новости, написанные заранее
Сегодня в 10 часов в Тверском суде должно было начаться рассмотрение уголовного дела против покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и благоразумно пребывающего за границей главы фонда Уильяма Браудера. Суд перенесли на 14:00 в связи с занятостью бесплатных назначенных адвокатов обвиняемых. Журналистов было намного меньше, чем на первом заседании, перенесенном тоже по просьбе адвокатов. По большому счету, журналистам делать там совершенно нечего. Пустая скамья за решеткой была отснята всеми СМИ мира еще на первом заседании, телевизионщики и фотографы могут прийти за «картинкой» на чтение приговора, а пишущие могут написать репортаж, не посещая слушания. Все уже знают, что Браудера заочно приговорят к реальному сроку заключения (на год меньше того срока, который попросит прокурор, – типа, судья не тупо переписал обвинительное заключение, а «думал» над приговором). Дело в отношении Сергея Магнитского закроют в связи с его смертью, но не реабилитируют. Браудер уже никогда не сможет приехать в Россию, на следующих пресс-конференциях Путин на вопросы по обвинениям Браудера будет отвечать «что вы слушаете этого беглого уголовника?», ну а Магнитский своей смертью "по естественной причине" ловко избежал заслуженного наказания.
Хотя останки Сергея Магнитского по приговору суда не будут перезахоронены на территории тюрьмы или колонии, то есть физический процесс глумления над трупом сценарием не предусмотрен, то, что происходит в Тверском суде, трудно описать иначе. «Кафка», «абсурд», «инфернальное действо» - все это прозвучит в репортажах настоящих СМИ, пропагандисты отмолчатся или ограничатся сухим языком информационного сообщения.
Изменение климата приводит к исчезновению кормовой базы и питающихся этими кормами животных. Ничего удивительного нет и в том, что обратная эволюция суда в «комиссию по проштамповке приговора» убивает профессию судебного репортера. Вот вам целый список уже заранее известных новостей «суд отказал в удовлетворении жалобы». На самих продлениях арестов узникам Болотной журналисты заранее набирали на смартфонах смски «Арест продлен до ...» и негласно соревновались друг с другом в скорости нажатия кнопочки «отправить» по стартовому сигналу штамповщика в мантии. Польза от этой клоунады лишь в том, что у родственников и друзей заложников Болотной есть возможность увидеться с ними и оказать моральную поддержку.
Изменение политического климата уничтожает кормовую базу не только судебных репортеров. С начала года иностранные газеты начали сокращать свое присутствие в России. Все им с нами ясно: «подавление инакомыслия, принятие антидемократических законов, экономические трудности. Не те темы, которые автоматически гарантируют читательский интерес». Действия редакций вполне понятны. Какие репортажи можно написать о политической жизни в Северной Корее? То, что все северокорейцы как один выразили поддержку всем инициативам любимого вождя, читатели давно уже знают.
Мы пока не совсем Северная Корея, но репортаж о предстоящей 31 марта акции Стратегии-31 на Триумфальной уже написан, надо только добавить свежих фотографий задержаний и проноса в автобус: «Около двухсот человек вышли 31 марта на Триумфальную. Эдуард Лимонов был задержан через минуту после появления на площади. Задержаны также около 30 человек, выкрикивавших лозунги «Свобода собраний всегда и везде!» Полиция выдавливала собравшихся с площади... «Граждане, не мешайте проходу других граждан!..» Доставлены в ОВД... Оформили протоколы по статьям 20.2 и 19.3».
По "Мемориалу" доской
Если правозащитные организации не хотят признавать себя иностранными агентами, их заставит гидра о трех головах – прокуратуры, юстиции и налоговой службы. Этот карательный орган еще наведет шороху на общественной ниве. Выкосит и то, что никогда не росло. В Международный «Мемориал» приходили и раньше, правда, без сопровождения зондеркоманды НТВ. Но куда ж теперь без этого недремлющего телеглаза, без этого агитатора и пропагандиста. И пусть команду на порог не пустили - разоблачительное кино она в обязательном порядке состряпает.
Власть и раньше насылала на правозащитников разнообразных проверяющих. Было дело, «Мемориал» целый год проверяли и вдоль и поперек. Да и региональные отделения вот уже тринадцать лет держат под неусыпным контролем. То подсылая в организации странных персонажей, то проверяя на вшивость мелким подкупом, то абсурдными требованиями приравнивая общественную работу к производственной деятельности. А потом, видно, надоело чикаться - решили разом покончить с правозащитной вольницей.
И власть придумала, что вменить зарвавшимся правдоискателям: "Наличие в деятельности НКО и незарегистрированных объединений фактов превышения пределов уставных задач, попыток присвоения функций законно избранных органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления, вмешательства в их деятельность". Оказывается, правовая помощь пострадавшим от произвола, публичное заявление о несогласии с действиями власти, посещение колоний и требование освободить политзаключенных – это и есть вмешательство в деятельность властных органов.
Еще бы! Когда политическая деятельность по сути запрещена, помешать диктатуре могут только болтающиеся без поводка правозащитники. Самое время всех скопом стереть в порошок. Но что касается «Мемориала», то тут особая статья. Именно стараниями мемориальцев в 91-м году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Нынешняя власть на это никогда не пошла бы. От самого термина «политические репрессии» ее корежит. Тем более в свете подготовки к большому «Болотному процессу».
«Мемориал» как родовая травма для специалистов по этим самым репрессиям, что теперь ходят и в депутатах, и в руководителях корпораций, и в уполномоченных по правам человека, да куда ни кинь – они повсюду. Для того они и затеяли зачистку действительности, чтобы в очередной раз переписать под себя отечественную историю. И совсем скоро она, отредактированная, отлакированная станет удобной и совсем не страшной. Ну, разве что на полстранички. Но зато с мудрым Сталиным, Народным фронтом, и бессменным Национальным лидером во главе. Они-то и заставят нас Родину любить. Без памяти.
Сергей Лукашевский
Сергей Лукашевский - директор Музея и Общественного центра имени А.Д. Сахарова.
Сергей Лукашевский против гомофобии
Афганский след в деле Чарыковой
11 марта российская Федеральная служба по контролю за наркотиками отпраздновала свое десятилетие - и в тот же день в Вене стартовала 56-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. Это главный орган регулирования международной наркополитики, и удивительно, что у нас о нем мало знают. Но, возможно, это как раз отражает реальное положение дел: ооновская бюрократия успешно тормозит любую инициативу, а Россия, США и Китай единодушно блокируют любые попытки продолжить дискуссии по реформе репрессивной наркополитики. Вот почему результатом работы КНС становятся лишь бесконечные резолюции с громогласной антинаркотической риторикой, мало связанные с проблемами людей, живущих вдали от экстерриториальных ооновских городков.
Нашу делегацию в Австрии формально возглавляет директор ФСКН Виктор Иванов.
По традиции его выступления в Вене - это своеобразная дань памяти Бастера Китона, великого комика с серьезным лицом. В 2011 году Иванов изумил венскую публику, сообщив, что программы заместительной терапии сворачиваются даже в США и Швейцарии, где они были начаты. Тогда я лично опросил бывших на сессии американцев и швейцарцев, заверивших меня, что информация Иванова не соответствует действительности. Генерал попался соврамши. Ну и что? Кого это в России взволновало? В марте 2012 года он , отвечая на вопрос Петера Сароши из Венгерской лиги гражданских свобод, почему по требованию ФСКН был закрыт сайт Фонда имени Андрея Рылькова, сообщил, что с сайта якобы торговали метадоном. Впоследствии в Москве во время судебного заседания, на котором представители Фонда Рылькова оспаривали закрытие веб-ресурса, юристы ФСКН не смогли предоставить ни одного документа, хоть как-то мотивирующего требования к провайдерам о блокировании домена. На самом деле сайт тормознули просто по телефонному звонку, а причиной было размещение в Сети переведенных на русский язык научных материалов, обосновывающих методику заместительной терапии метадоном и бупренорфином, рекомендованную ВОЗ и нелегальную в России.
В результате действий ФСКН наша страна в сфере наркополитики идеологически отброшена в 1970-е годы, когда Ричард Никсон в США объявлял о начале войны с наркотиками (а впоследствии, уже в 1980-е, Буш-старший, будучи вице-президентом, под теми же лозунгами тайно использовал мексиканские наркокартели для борьбы с левыми политиками в Латинской Америке). У нас сегодня есть собственная Мексика - это Афганистан, в котором, как принято говорить, производится 90% мирового героина. И вот в 2013 году генерал Иванов в Вене выступает с дежурно-искрометным докладом о положении дел в Афганистане. Россия ведет отчаянную борьбу с наркоагрессией. Наши специалисты сотрудничают с американцами в постоянном поиске адских нарколабораторий. Враг не пройдет, хотя героин тоннами провозится на территорию России и куда-то девается потом. Некоторые в последнее время говорят о какой-то легализации, отметил генерал. Так вот, легализация - это ерунда, от нее китайцы чуть не вымерли в XIX веке! По поводу Китая - это отдельная тема, хотя легализация тут вовсе ни при чем. Важно другое: в своей венской речи блистательный генералн и словом не упомянул о реальном положении дел в России и о нашей бесчеловечной наркополитике.
“Сегодня за наркопреступления сидит 147 тысяч человек, - сообщил генерал Иванов в интервью “Российской газете”, приуроченному к 10-летнему юбилею ФСКН. - А что касается наркоманов, то в течение года удается выявить около миллиона потребителей зелья, из них 200 тысяч - в ночных клубах и на дискотеках”. И добавляет: "90 процентов всей уличной преступности совершается наркопотребителями". Так незаметно для наивного читателя производится важная подмена понятий: наркоман, то есть человек с диагнозом "наркозависимость", приравнивается к наркопотребителю. А уж затем этот наркопотребитель приравнивается к "уличному преступнику". Это выглядит и вправду страшно: 200 тысяч преступников пляшут на дискотеках! Между тем ни российская судебная статистика, ни статистика МВД, включающие данные по количеству преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, понятием "уличная преступность" вообще не оперируют.
Итак, генерал пугает нас взятыми с потолка "90 процентами всей уличной преступности", и обыватель в ужасе оглядывается по сторонам в поисках агрессивных наркоманов, готовых наброситься на него на улицах российских городов. Между тем это очередной миф, порожденный банальной наркофобией.
А если бы венские коллеги генерала Иванова знали, чем занимается подотчетное ему ведомство, боюсь, даже у представителей США, где каждый год в заключение отправляется около миллиона наркопреступников, волосы бы встали дыбом. Самое известное дело ФСКН - преследование Маргариты Чарыковой, инвалида с тяжелым и редким заболеванием, обвиняемой в хранении 20,47 гр кустарного амфетамина (ст. 228.1 ч. 3 п. «г») и подготовке к торговле (ст. 30 ч. 1). Сейчас 24-летняя Чарыкова содержится в больничной камере СИЗО "Матросская Тишина", где из-за отсутствия должного медицинского ухода фактически гниет заживо. На днях было объявлено, что дело Чарыковой будет по ускоренной процедуре рассматриваться Европейским судом по правам человека. Однако представители московского управления ФСИН опровергают претензии правозащитников и матери обвиняемой, утверждая, что девушка почти здорова. Следователь ФСКН полковник Вячеслав Сагитов, ведущий дело Чарыковой, видимо, считает, что имеет дело с опасной наркоторговкой, чье место за решеткой, а ее мнимые мучения - просто уловка, чтобы сбежать от суда, и потому отказывает в проведении экспертизы медицинского освидетельствования. Вот такое амфетаминовое дело, вслед за делом ветеринаров, кактусоводов и прочими фантастическими примерами Великой Антинаркотической Борьбы.
Но увы! Согласно цитировавшемуся выше интервью генерала, в этой борьбе покамест побеждают наркотики. Все новые виды зелья выбрасывают на рынок подлые барыги, причем - вот хитрецы! - делают это ровно за месяц до того, как ФСКН запретит очередную курительную смесь или кодеиносодержащие препараты. Главный наркоборец ничтоже сумняшеся утверждает: “Кодеин - это тот же героин, только более агрессивный”. Понятное дело, что с такими утверждениями и с такими примерами, как дело наркопреступницы Чарыковой, в Вене лучше не выступать. Там лучше рассказывать про планетарные центры наркоторговли в Афганистане - он далеко, попасть туда нелегко, авось поверят и не проверят. А в Россию все равно никто не сунется. Она вообще на другой планете.
Отряд Граждан Особого Назначения

По дороге к первому массовому митингу в Лужниках, 1989 г. Фото Д.Борко
В шутку они называют себя Отряд Граждан Особого Назначения. Ну да, актуальная ассоциация. На самом деле ОГОН - Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод.
Их принцип - не участие, но наблюдение (или "участие наблюдением", но это уже - моя интерпретация). Их главный критерий истины - не "политика", а Право.
Большинство из них - члены Международного молодежного правозащитного движения (МПД), участвовали в разных проектах, в том числе - в составе международной миссии наблюдателей на событиях в Белоруссии 2010/11 годов. В прошлом году вспыхнуло "белоленточное движение" - и для мониторинга просто не хватало людей. А после 6 мая стало ясно, что фиксировать придется не только уличную активность, но и репрессии. Так возникла идея создать широкую сеть подготовленных наблюдателей.
Вскоре ОГОН испытал свои силы, мониторя крупные митинги осени и став одним из инициаторов Дней проверки документов (ДПД) у полицейских в сентябре-октябре 2012, а в январе - Дня проверки отделений полиции.
Отличие ОГОН от правозащитных организаций в том, что наблюдателями могут стать непрофессионалы - обычные граждане, озабоченные соблюдением гражданских прав. Главные условия для участников - отказ от насилия и дискриминации во всех формах, политическая нейтральность и приверженность Праву. "Мы не отказываемся от своих позиций и взглядов, мы лишь обязуемся не участвовать в конфликте двух сторон в случае его возникновения. Мы - третья сила." - говорят огоновцы.
И все же не только наблюдение. "Мы полагаем, что само присутствие организованных людей с опознавательными знаками в каких-то конфликтных ситуациях говорит "вас видят", демонстрирует возможность иного решения, чем насилие. Обладая определенной подготовкой такие люди могут повлиять на развитие конфликта, выступить медиаторами, посредниками конфликтующих сторон", - говорит координатор Виктория Громова на ознакомительной встрече с потенциальными участниками движения.
Вика родом из Владимира, сейчас живет в Воронеже. В ОГОНе - не только москвичи, а сама провинция начинает проявлять интерес к идее. Прообраз ОГОНа существует даже на Украине.
Набрав кандидатов на таких встречах, огоновцы откроют семинар для будущих наблюдателей. Сейчас акцент делается на мониторинг судов по "Болотному делу".
"Сегодня на такие процессы ходят в основном политические активисты. Они могут оказать моральную поддержку обвиняемым, поднять шум по поводу неправедного суда. Но в основном мы можем узнать от них о "преступном режиме", а всех деталей процесса, конкретных правовых нарушений неподготовленные люди обычно передать не могут", - объясняет мне Вика. Огоновцы обучают методикам наблюдения, "дорожной карте наблюдателя". Технологии взяты из опыта международных правозащитных организаций, ОБСЕ, Международной комиссии юристов. "Мы берем разные пригодные методики и адаптируем их для широкого круга людей. На судах мы, конечно, не рассматриваем детально доказательства сторон, это - слишком сложная юридическая задача. Но обучаем оценивать, насколько суд процессуально соответствует Конвенции по правам человека".
По своему опыту скажу, что нет более угнетающего занятия, чем сидеть сегодня на российских судах с политическим уклоном. Но сидеть надо. И единственная возможность преодолеть обреченность и тоску там - вооружиться знанием и иметь конкретную цель. И тогда в действиях судей и прокуроров обнаруживаешь массу интересного! Кому-то "позиция невмешательства" покажется пассивной и бессмысленной. Но напомню: год назад все началось с того, что масса людей тоже пошла наблюдать. За выборами. Похоже, они многое для себя почерпнули.
И еще. Нет ничего нового на свете. 20 лет назад, в октябре 93-го, я тоже искал "третью силу". Тогда не нашел, но годы спустя оказалось, что она была.
И еще. В перечислении принципов ОГОН сказано:
"Беспристрастность и готовность быть непонятыми всеми сторонами. Это самый сложный принцип, который требует не только профессионализма и мудрости, но и огромного мужества и любви. Именно обвинения в недостаточной лояльности от всех сторон конфликта будут означать, что Группа становится «третьей силой» и успешно выполняет свою Миссию."
Я все думал, что мне это напомнило. Вот что:
"...Участник Бригад должен иметь некие универсальные признаки в одежде, чтобы не тратить время на то, чтобы быть узнанным и донести до конфликтующих свою задачу.
...Всегда есть предвестия бури. Заметив их, участник Бригады не будет дожидаться развития конфликта, постаравшись урегулировать его в начале, когда это легче и не приведет к трагическим последствиям.
...Он или она должен иметь живую веру в ненасилие. Это невозможно без живой веры в Бога. Без нее он не будет иметь мужество, чтобы умереть без гнева, страха и жажды возмездия. Это также означает уважение к жизни даже тех, кто может быть назван оппонентами или бандитами. Это необходимо для уверенного успокоения страстей, когда животное начало в человеке начинает побеждать."
Махатма Ганди. О формировании Бригад мира.
Ирина Левонтина
Ирина Левонтина - кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова.
«Московские процессы»: иллюзия справедливости или надежда на диалог?
Федеральные каналы уже несколько лет показывают нам инсценированные судебные процессы, на которых торжествует справедливость, создавая тем самым иллюзию правосудия в стране, где фальсифицируются уголовные дела, похищают и пытают людей, сажают в тюрьму невинных бизнесменов, художников, оппозиционеров и прочих неугодных людей. Проект швейцарского режиссера Мило Рау «Московские процессы» на первый взгляд преследовал ту же цель – представить справедливую версию судебного разбирательства, взяв за основу коллизию трех судов над художниками, связанных с выставками «Осторожно, религия!» (2003), «Запретное искусство – 2006» (2007) и панк-молебном Pussy Riot (2012).
Но, в отличие от отечественных телесудов, действие, развернувшееся в Сахаровском центре 1-3 марта, состоялось после сфальсифицированных судебных расправ и никого не могло ввести в заблуждение по поводу реального положения дел в стране. Свидетельский спектакль собрал не актеров (если исключить вопрос театральности как игровой манеры поведения), а реальных сторонников обвинения и защиты, которым была предоставлена площадка для выражения их собственных взглядов на церковь и христианство, современное актуальное искусство и право художника на свободное творчество и, главное, - на освоение религиозной символов, текстов и взаимодействие с храмовым пространством. В течение трех дней в импровизированном зале судебных заседаний звучали речи о сакральном, художественном и политическом: патетику идеологов евразийства, имперского национализма и православного антизападничества сменяли академические речи искусствоведов, религиеведов, культурологов и творческие откровения художников.
Это не было и не могло стать прямой реконструкцией процессов. Невозможно воссоздать напряженную тяжелую атмосферу ненависти, оскорблений и безысходности, царившую на реальных судебных заседаниях, по которым прокатился тяжелый церковно-государственный каток лицемерия и насилия. Не было ни приставов, которые хамили публике и выводили из зала суда за невольную улыбку в адрес судебного театра абсурда; не было и собаки, которая лаяла и набрасывалась на адвокатов и подсудимых; не было кликуш, выкрикивающих оскорбления, не было и судьи Сыровой. Не было многих реальных участников процессов. Наиболее сложным для организаторов оказалось найти свидетелей-экспертов обвинения. Наивной оказалась их надежда услышать в суде священников РПЦ, которые бы представили разумные (как наивно ожидал Мило Рау) аргументы против выставок и панк-молебна. Приглашали многих (сама звонила и писала) – никто не согласился прийти. Не было ни охранников, ни свечницы, ни благочестивых верующих, повторявших на реальных процессах одни и те же обвинения, будто надиктованные театральным суфлером персонажам-близнецам.
Ничего не было, но при этом все было. Только, как отметил Михаил Рыклин, в облегченном импортном варианте – light trial. Услышав агрессивные речи обвинителей об искусстве, угрожающем безопасности страны, о бесовской природе акционизма, сидящая рядом русская немка сказала мне в ужасе: «Даже не верится, что это реально происходит». У меня было такое же чувство морока, кошмарного сна на процессе над Pussy Riot в зале Хамовнического суда, а иностранцу хватило и легкой импровизации на сцене, где никому не грозил реальный срок. Европейцам, конечно, было тяжело слушать свидетелей-экспертов обвинения, которые в течение трех дней обличали Запад в желании купить, разрушить, растлить (и развеять по ветру?) Россию, ее традиционные ценности, цивилизационный код, мораль, душу, дух, веру, святыни и прочее, и прочее. После каскада обвинений в адрес Запада, и особенно, конечно, Америки, забавно звучали слова Шевченко в адрес (псевдо?) сотрудников ФМС, что те, прерывая спектакль, позорят нас в глазах иностранцев. Большего позора, чем поток брани в адрес западной культуры со стороны обвинения, представить в тот момент было трудно.
В реальных процессах, конечно, было больше театральности, жестче режиссура и слаженней работа суфлерской будки. Свидетелям обвинения раздавали листки с текстом пьесы, которая была расписана заранее. Живыми непосредственными на реальных процессах были только голоса обвиняемых, адвокатов и редких из допущенных экспертов. Нас, экспертов защиты, не пускали в зал, и потому, что мы бы звучали людьми с улицы, прорвавшимися на сцену. Вся театральная энергия обвинения уходила на то, чтобы погасить пыл обвиняемых и адвокатов.
В спектакле дух репрессивной машины отчасти воссоздал Максим Шевченко, выступавший в роли эксперта обвинения. Агрессия и пластика альфа-самца, доминирующей особи, выходящей львиной поступью в центр зала, с неким плотоядным чувством предвкушающей игру с очередной жертвой, испытывающей наслаждение от той власти, которую дает медийная площадка и абсолютная безнаказанность, - все это напоминало поведение власти и незабвенной судьи Сыровой, которая тоже получала удовольствие от права унижать людей, смеяться над ними, нарушая законы не только государства, но и приличия, логики, человечности. Шевченко, слушать которого было очень тяжело из-за агрессивной оскорбительной манеры допроса и потока немыслимых обвинений в адрес художников и защиты, почерпнутых из допотопных представлений об искусстве и христианстве, невольно создал пародию на стилистику власти, то есть самопародию. Его агрессивная манера сформировалась не в залах судебных заседаний и не в университетской аудитории (как у адвоката или экспертов защиты), а в телестудии на боевой арене ток-шоу бизнеса, и он навязывал атакующую стратегию судебному спектаклю, старательно создавая эффект медийного скандала. ФМС и казаки хорошо вписывались в этот жанр, и Шевченко чувствовал себя органично в переговорах с ними, наполняя все большей энергией искусственно созданную «сенсацию».
Одна из корреспондентов (которая, вероятно, освещала реальные процессы в течение многих лет) сказала в сердцах: «Господи, как же это все надоело! Сколько лет они говорят одно и то же, не в состоянии услышать друг друга! Запереть бы их в одной камере, пока не договорятся». Ясно, что нужен язык диалога, но камера (в которой протестные художники уже сидят!) не приведет к пониманию. Насколько же неистребимо упование на тюрьму как на самый верный способ решения проблем! Судебный спектакль отчасти и стал такой импровизированной камерой, в которой собрались вместе и были вынуждены если не услышать, то хотя бы слушать друг друга те, кто никогда бы иначе не встретился на дискуссионной площадке. Рядом со мной молча (не бросая мне в лицо проклятий из книг библейских пророков) сидел Дмитрий Энтео, который в перерыве тихо разговаривал с Михаилом Барановым (бывшим монахом, чьи ответы на спектакле вызвали у людей слезы), и тот просил их не прерывать, сказав, что они ведут душеспасительную(!) беседу.
Организаторы «Московских процессов» справедливо считали религиозную риторику и мотивацию наносной и незаконной, и хотели вывести ее из юридического поля, оставив конфликт художника и власти, искусства и политики. Я, консультируя Мило Рау по религиозным аспектам процессов, говорила, что нельзя отказываться от религиозного языка в общении с обвинением, да и не получится, и будет неправдоподобным, поскольку не отразит атмосферы реальных процессов. Агрессивному псевдорелигиозному языку нужно противопоставить гуманный просвещенный евангельский язык христианства, апеллирующий к текстам Библии и церковного предания, авторитет которых не могут не признать те, кто объявляют себя православными, но на деле попирают одну заповедь за другой. Языком диалога с политической религией вражды (если услышат!) может стать только позитивный язык евангельского учения. Как мусульмане, утверждавшие, что исламские террористы не имеют отношения к миролюбивому учению пророка Мухаммеда, должны были последовательно отделять гуманное учение от той идеологии вражды, которая манипулирует религиозными терминами и необразованными верующими, так и христиане в России должны последовательно показывать пропасть между учением Христа и репрессивной идеологией РПЦ.
В начале спектакля эксперт Роман Багдасаров и защита пытались отделить юридическое от религиозного (как неюридического), но попытки эти были обречены на провал. Ссылки на конституцию и закон раздражали Шевченко как красная тряпка («Надоели разглагольствования о конституции!»). Он настаивал на религиозной сути процесса, и по ходу импровизировал в поисках аргументов, договорившись до того, что обвинил(!) художников и защиту, ссылающихся на законы, в защите государства. Выверт в стиле абсурда, в котором была своя истина: суд и защита естественно, но безуспешно, призывали обвинение руководствоваться юридическими, а не религиозными терминами, и тем самым действительно были на стороне государства как гражданского сообщества.
12 марта в Сахаровском центре прошло бурное обсуждение свидетельского спектакля «Московские процессы». Историк и социолог Анатолий Голубовский страстно критиковал Мило Рау за политическую конъюнктуру, безответственность, медийную поверхностность проблемного среза, слабую режиссерскую работу и волю, и многое другое. Мы с Ольгой Шакиной (исполнявшей роль судьи) ему последовательно оппонировали, затем к нам присоединился фотограф Владимир Бероев, который был на спектакле присяжным. Мило Рау и его команда, кроме свидетельского судебного спектакля, сняли около ста часов интервью, в которых эксперты идут и вглубь, и вширь, что делает срез гораздо глубже, и дает возможность выйти далеко за рамки судебного хронометража (по 10 минут на вопросы обвинения и защиты). А главное – авторы спектакля оживили интерес к процессам, за которыми стоят очень серьезные проблемы, и дали высказаться в «театре отверженных» нам, которых отвергли судьи Сыровы и Ко. Я слушала Голубовского с большим интересом (умная живая критика всегда интересна!), и мы решили продолжить диалог на очередном семинаре "Концептосфера Pussy Riot".
Охотнорядские дружины
Единоросы внесли законопроект о штрафах за неповиновение требованиям дружинников и внештатных сотрудников полиции. Очередная думская инициатива, как мне кажется, глупа и бессмысленна. Уже есть закон "О полиции". У полиции есть законное право применять в отношении граждан-нарушителей санкции. За неповиновение законным требованиям полицейского полагается арест. Все. Этого достаточно.
Зачем помимо уже существующих и нормальных, но часто неисполняемых законов выдумывать идиотские законопроекты, мне непонятно. Эта инициатива, на мой взгляд, такая же пустая и даже вредная, как и недавние затеи с казачьими патрулями или с совместными рейдами дружинников и ФМС. Не вижу смысла расширять круг должностных лиц, обеспечивающих общественный порядок. Есть полицейские, которые обязаны выполнять закрепленные за ними законом функции.
И потом, дружинники - это кто? Что за зверь такой - "внештатный сотрудник полиции"? У них какие полномочия? Они могут так же, как и все остальные граждане, делать замечания тем, кто справляет нужду в неположенном месте, или выгуливает собачку на детской площадке, или громко матерится на улице. Сделать замечание - и все. А если не подействовало, вызвать полицию.
Правда, часто полицейские просто не реагируют на жалобы граждан, но эту проблему с помощью наделения неких "левых" помощников полиции новыми полномочиями не решить. Надо добиваться исполнения полицейскими уже существующего закона "О полиции", и это уже задача не недоуменной Думы, а МВД и некоммерческих организаций, которые специализируются на "полицейской теме".
 RSS
RSS