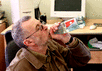Как пить не дать
Как пить не дать

Лев Рубинштейн. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Атас, сограждане! Теперь у нас будет борьба с пьянством и алкоголизмом. Давно чего-то не было.
Президент публично и непредвзято заговорил о госмонополии на бухло и о прочих мерах по оздоровлению общества и движению России, как было сказано, вперед. И об этом сейчас говорят много, громко и бестолково.
А еще до появления главного врача к дверям нашей палаты неслышно подкрался санитар Онищенко со своими смирительными инициативами.
Пока это всего лишь документ "О надзоре за алкогольной продукцией". В каковом надзоре, заметим попутно, не только нет ничего предосудительного, но даже и много душеполезного. Было бы. Если бы не сам феномен Онищенко, к различным инициативным телодвижениям которого мы, наученные некоторым опытом, привыкли относиться вроде как к народным приметам. Все ли помнят, например, что последовало вскоре после того, как проницательнейший из санитарных врачей доблестно, практически в одиночку разоблачил исключительную вредоносность "боржоми"? То-то же.
Это правда - некоторые особенности коммуникативного поведения г-на Онищенко не могут не вызвать отчетливых подозрений в его душевном и интеллектуальном неблагополучии. Но если он и безумец, то безумец высокого полета, каковыми были все вещуны и пророки в своем и чужом отечестве. Он, можно сказать, ходячий свод народных примет и поверий. Его речи слушать невозможно, но за его инициативами надо следить пристально. Они всегда что-то означают. Причем вовсе не то, что он говорит, а нечто иное, куда более глубинное и судьбоносное.
Вот мы и оказались на пороге очередной антиалкогольной кампании. Кто бы сомневался.
О том, чем заканчивались все такие кампании, известно слишком хорошо, и не будем повторяться. Скажем лишь, что антиалкогольные мероприятия никогда не дают никакого зримого результата прежде всего потому, что так и не достигнут до сих пор общественный консенсус по одному из главных национальных споров, по своей онтологической глубине сопоставимому со спорами между яйцом и курицей о первородстве или между бытием и сознанием о том, кто кого определяет. Не решен и вряд ли будет решен в ближайшей исторической перспективе этот проклятый русский вопрос: жизнь ли такая, потому что пьют, или пьют, потому что такая жизнь.
Возвращаясь же к теме народных примет, не могу не указать на еще одну малозаметную деталь, каковую по причинам, которые станут понятными чуть ниже, я не мог не заметить. Вот что еще я обнаружил в этом неказистом на вид документе: "В структуре продажи алкогольной продукции и пива населению 80% приходится на пиво, 13% - на водку и ликероводочные изделия". Не знаю кого как, а меня заставили вздрогнуть эти самые 13 процентов. Ведь не двенадцать, и не четырнадцать. А ведь именно тринадцать. Тревожное число, чтобы не сказать роковое. А дело в том, что эти злосчастные проценты сложились не без моей активной помощи.
Признаюсь, причем безо всякого особого стыда, что человек я выпивающий. Именно выпивающий. Слово "пьющий" в русском языке звучит несколько драматически - "мужик он у меня хороший, но пьющий". А вот я именно что выпивающий, то есть просто-напросто люблю это дело. Вот и выпиваю. Без страсти и фанатизма, но с нежностью и уважением. Любовь моя не стреляет во все стороны пожароопасными искрами, а горит ровным уютным огоньком.
Из всего прочего предпочитаю крепкое, а конкретно - водку. Она как бы моя законная и постоянная. К ней я неизменно и покаянно возвращаюсь после коротких, хотя подчас и сильных увлечений, после шкодливых "походов налево" - к разным там граппам, кальвадосам, текилам и прочим сорокаградусным объектам иноземного происхождения.
Нет, как хотите, но водка это водка. Она универсальна и всегда дружелюбна. Она ровна в общении. Она охотно и всегда содержательно поддерживает душевный разговор, когда нам грустно и одиноко, и деликатно молчит, когда человеку потребны тишина и покой. О ней легко и приятно говорить как о женщине - любимой, преданной, легко отзывающейся на любые движения твоей непредсказуемой души.
А вы говорите "тринадцать процентов".
Живя какое-то время в Германии, я взвалил было на себя нелегкое бремя культурного героя, пытаясь обучить немецких знакомцев пить водку по-нормальному, то есть перед едой, а не после. С закуской, а не без. И главное, не произносить этого ужасного, оскорбляющего чувствительный слух выпивающего россиянина "na sdorowje". А если не знаешь, что именно говорится в этих случаях, не говори ничего. Но вотще: выполнить свой миссионерский долг я так и не смог.
Но главное не это. Как же я был изумлен, чтобы не сказать оскорблен в лучших чувствах, узнав однажды, что в немецком языке водка вовсе не жена и не подруга, а черт знает кто. Она там, представьте себе, не "она", а "он". Она там буквально der Wodka, а потому пропеть немцу ту песню о водке, которую я исполнил только что, совершенно невозможно без того, чтобы не вызвать подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну! И о чем с ними говорить после этого? У них, кстати, и "смерть", и "война" - вовсе не фатальные тетки, как у нас, а грубые, поросшие дикой шерстью и лишенные всяческой привлекательности мужики.
Впрочем, "кофе" у них тоже мужского рода. Еще совсем недавно я бы добавил: "как у нас". А теперь уж не добавлю. Потому что и бывший наш "кофе" подвергли унизительной кастрации, превратив его в бесполое и безвольное существо. "Оно" уже никогда не будет мне другом и братом, неизменно взбадривающим и протягивающим, если надо, руку братской помощи. Пить-то я его буду, разумеется. Но уже по рутинной привычке и не более того. Без прежней радости. Язык - не пустая вещь.
Исторический опыт убеждает нас, что именно они - русское пьянство и русский язык, скрепленные между собой невидимыми, но неразрывными нитями, - служат столь же тайной, сколь и мощной основой всей нашей жизни и всей нашей истории. Связь эта гораздо глубже, чем наши возможности ее постичь, а потому мы можем лишь строить догадки. Например, о том, что и то и другое дает нам иллюзию свободы и на какое-то время способно примирить с реальностью.
А потому они совершенно не терпят посягательств на свою выстраданную веками автономность. А потому во все времена все антиалкогольные кампании и все попытки реформ языка, какие бы формы они ни принимали, с какими бы благими намерениями и с какой степенью радикальности они ни проводились, воспринимались как приметы близкого - для кого-то долгожданного, для кого-то катастрофического - конца текущей исторической эпохи.