 Шведская сценка
Шведская сценка

Лев Рубинштейн. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
"Ну? - бодро и, главное, предсказуемо спросил меня коллега по редакции, лишь только я вошел туда с ритуальным дьютифришным "Абсолютом" в руках. - Сейчас небось засядете за путевые заметки?" И мы с ним тотчас же предались излюбленному занятию - импровизированию советского заграничного очерка, начинающегося, как правило, со слов "Мельбурн (Осло, Гамбург, Нью-Йорк, Карачи) встретил меня проливным дождем". Далее обязательно следовали встречи с "простыми людьми", жадно расспрашивавшими "меня" о жизни в СССР и положении рабочих. Узнав, что с положением рабочих в СССР все о'кей, простые люди горестно вздыхали и сообщали автору, что у них там с положением рабочих даже и близко не о'кей. О чем и просили рассказать "меня" советскому читателю, ни в коем случае не называя их настоящих имен.
Автор же, верный данному слову, честно, ничего не перевирая, кроме имен отважных информантов, передавал советскому читателю нерадостные вести о жизни простого люда. Советский читатель, разумеется, верил каждому правдивому слову писателя и его стройной картине мира, где, например, пожилой докер, отогнув ворот спецовки, показывал автору потайной значок с изображением Ленина, отчего у автора наворачивались на глаза непрошеные слезы. Фальшивый блеск витрин там неизбежно служил толстым слоем грима, под которым скрывалась дряблая кожа пресловутой западной демократии. Ну и так далее.
(Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, мой неугомонный коллега ехидно спрашивает, не про "гостеприимную ли шведскую землю" я строчу свой "репортаж". Про нее, коллега, про нее самую. Не мешайте работать.)
В этот раз я действительно вернулся из города Стокгольма, который встретил меня никаким не дождем, а ярким солнцем и ужасно холодным ветром. Там было очень холодно и очень красиво, тем более что окно моего гостиничного номера выходило прямо на залив с качающимися от шквального ветра яхтами.
С "простым людом" пообщаться по душам не пришлось. Попадался в этот раз как назло все больше не самый простой люд в лице университетских славистов - как хорошо знакомых, так и не очень.
На второй день имел место вечер с моим участием в клубе, где кучкуются местные гуманитарные люди. Все это мероприятие называлось "Русский вечер". Кроме меня была шведская поэтесса, чье участие мотивировалось, по-видимому, тем, что она сочинила поэму про свою давнюю поездку в Ленинград, где, судя по ее устным свидетельствам, она общалась как раз с пресловутым простым людом. Причем едва ли не вся мужская составляющая этого люда дружно, не сговариваясь, проявляла к ней нескрываемый марьяжный интерес. Будучи девушкой по отношению к себе вполне трезвой, даром что поэтесса, она из этого не стала делать слишком лестных для себя выводов, а просто сообразила, что всему этому люду ужас как хотелось умотать в Швецию, где, как было сказано, блеск витрин неизбежно служил толстым слоем грима.
Еще в "Русском вечере" участвовал ансамбль с двумя певцами: один был натуральный цыган с соответствующим репертуаром, другая - рослая красавица, певшая песенки на идиш. Я этого прекрасного языка не знаю, но, услышав слова "Бессарабия" и "эссен мамалыге", я, кажется, что-то понял. Среди музыкантов выделялся скрипач - невысокий чернокожий парень в смешной шляпе с узкими полями. Изумил меня не столько его облик, сколько то, что он заговорил со мной на очень неплохом русском. "Вы откуда?" - спросил я его. "С Кубы, - ответил он. - А русский я знаю потому, что закончил Киевскую консерваторию. Потом еще и в Одессе жил". И радостно засмеявшись, он добавил: "Я кубинский хохол". Как этот кубинский хохол попал в Швецию, я спросить постеснялся.
Такой вот был "Русский вечер". Хотя почему бы и нет. Все-таки "всемирная отзывчивость" - не пустые же слова.
Я, кажется, знаю, почему все эти четыре дня я столь пристально приглядывался и прислушивался к разным забавным мелочам, которые в другое время могли бы и пройти мимо моего внимания. Я думаю, что так выразилась психическая реакция на страшные и мучительные известия из Японии, наваливавшиеся на меня то с экрана телевизора, то со страниц газет. Непонятный язык усиливал впечатление нереального кошмара и чувство бессильного сострадания.
В другое время я мог бы и не обратить внимания на забавный речевой казус, случившийся в разговоре со старинным моим приятелем, филологом-русистом из Гетеборга. Когда я спросил, как поживает его семья, он вдруг меланхолически, как мне показалось, сказал: "На сегодняшний день в Швеции четыре идиота". Не успел я восхититься столь высоким интеллектуальным уровнем шведского населения. Не успел я с хорошей завистью сказать ему, что всего четыре идиота на всю, даже и не слишком многонаселенную страну - это очень высокий результат, как он продолжил: "А теперь моя жена..." Тут я впал в легкую панику, лихорадочно пытаясь смоделировать свою дальнейшую реакцию. Но паника была недолгой, потому что он снова продолжил: "А теперь моя жена получила заказ от одного очень уважаемого издательства на новый перевод".
Фу ты, черт, слава богу! Слово "Идиот" мгновенно оделось в крепкие кавычки, как реки одеваются в гранитные берега, и незыблемая картина мира, хоть и утратила на миг свои привычные очертания, все же обрела их вновь.
Да и как я мог не догадаться сразу! Все же понятно: его жена - переводчица, она уже перевела на шведский несколько томов Платонова. А теперь вот получила заказ на новый перевод "Идиота". А до этого их было четыре. Кто тут идиот, спрашивается? Не надо мне подсказывать, я сам знаю.
Я поведал об этом казусе своему собеседнику, и он от души повеселился, добавив ради восстановления пошатнувшейся было истины, что идиотов в Швеции все-таки существенно больше, чем четыре. Некоторое время мы померялись масштабами наших национальных идиотизмов и пришли к неизбежному, хотя и печальному, консенсусу: в мире, к сожалению, идиотов больше, чем нормальных людей. После чего отправились на рыбный рынок есть какую-то особенную жареную сельдь.
...А мой редакционный коллега между тем все не унимается. Вот и опять вкрадчиво спрашивает, не собираюсь ли я назвать свой текст "Из стокгольмских тетрадей". А что, мол: скромно и в то же время оригинально. Собираюсь, коллега, конечно же собираюсь, какие сомнения! А если вы такой умный, то придумайте название сами.
 Статьи по теме
Статьи по теме

Мы были в Грузии
Меня поразил русский язык, на котором охотно и с видимым удовольствием говорили (или хотя бы старались говорить) буквально все, с кем мне приходилось общаться. Я с радостью и благодарностью убедился в том, что русский язык, который для многих поколений грузинских интеллигентов был прежде всего языком культуры, таковым и остался.

Соловьино-музейная ночь
И он рассказал, как сколько-то лет тому назад он пригласил Рихтера и устроил концерт для десяти примерно слушателей. "Здесь играл Рихтер, - рассказывал Мюллер. - А здесь сидели гости. А вокруг дома стояли несколько нанятых мной человек и палками отгоняли соловьев. Они пели ужасно громко и мешали маэстро играть, а публике слушать".
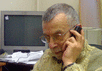
Песня оленине
Там же я поделился с дамой-экскурсоводом своим навязчивым ощущением торчащих из земли костей. "Это, кстати, бывает в самом буквальном смысле, - с профессиональной деловитостью ответила она. – Весной, когда чуть-чуть подтаивает вечная мерзлота, на поверхности может оказаться фрагмент человеческого скелета".


















